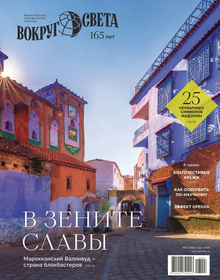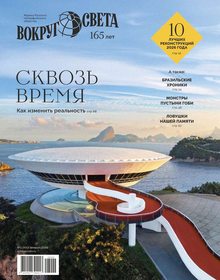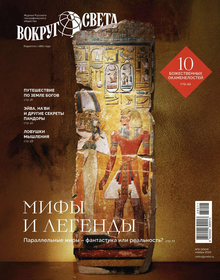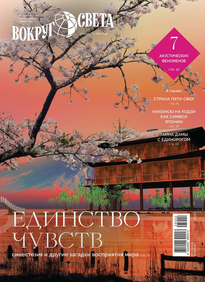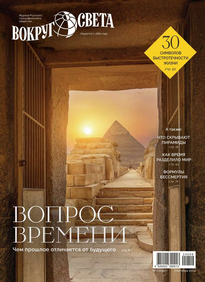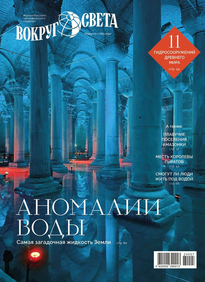Нам, людям, несколько поколений за одним столом не кажутся чем-то необычным. Бабушки и дедушки давно стали частью повседневного фона: на скамейке около дома, в чате, на даче, в автобусах и электричках. Но с точки зрения природы, это вовсе не норма. Почему пожилые особи вообще живут так долго – ведь эволюция, казалось бы, должна заботиться только о тех, кто еще способен размножаться?
Ответ на этот вопрос дает так называемая гипотеза бабушки, предложенная в 1957 году ихтиологом Джорджем Уильямсом. Суть в том, что пожилые самки, хотя и не рожают сами, повышают шансы на выживание внуков. Они помогают с едой, защищают от хищников, а главное – освобождают руки дочерям, позволяя тем рожать чаще. Это не просто забота, а эволюционное вложение в успех будущих поколений. Такая стратегия действительно дает плоды: согласно моделям, опубликованным в Трудах Королевского общества, присутствие бабушек в человеческих сообществах может ускорить рост ожидаемой продолжительности жизни практически в два раза. Но бабушки есть не только у нас.
Под землей тоже есть культура
Чтобы описать уникальную форму жизни индийских пчел, в которой одни особи полностью отказываются от размножения ради других, в 1966 году Сюзанна Батра предложила новый термин – «эусоциальность». Рабочие особи общественных насекомых, хоть и стерильны (потомство производит одна самка – «королева»), но всю жизнь заботятся о потомстве. Современные исследования показывают, что обучение здесь тоже играет важную роль: так, молодые муравьи учатся у старших, следуя их феромонным следам и повторяя действия. Обнаружены даже «тренировочные» взаимодействия, в которых старший муравей «учит» младшего находить пищу.
Эусоциальность долго считалась прерогативой насекомых, пока не был до конца изучен образ жизни удивительных грызунов – голых землекопов (Heterocephalus glaber) и Дамарских пескороев (Fukomys damarensis). На сегодняшний день это единственные млекопитающие с настоящей эусоциальной структурой. В колонии, как и у насекомых, размножается только одна «королева», а остальные – ее родственники, выполняющие функции охраны, уборки и воспитания. Некоторые старшие особи берут на себя роль «воспитателей» и демонстрируют малышам, как ориентироваться в туннелях. По данным исследований Университета Вашингтона, у землекопов развивается устойчивая «социальная профессия», связанная с возрастом и опытом. Некоторые становятся постоянными «нянями», передающими навыки следующему поколению.
Мастер-классы капуцинов
Придумать что-то по-настоящему удачное – трудно, но еще труднее – сохранить это в памяти группы на века. Именно поэтому действительно полезные навыки закрепляются в виде традиций и передаются из поколения в поколение. У бородатых капуцинов (Sapajus libidinosus) в Бразилии традиция раскалывать орехи пальмы камнями насчитывает минимум 700 лет – археологи нашли орудия с тем же износом в слоях XIV века. Молодые обезьяны внимательно наблюдают за более опытными членами группы, чаще всего – за пожилыми особями. Они садятся рядом, смотрят, как те выбирают камень, размещают орех, с какой силой и под каким углом бьют. Некоторые молодые капуцины проводят часы в такой «практике наблюдения», прежде чем пробуют сами. Еще реже традиции охоты не просто сохраняются столетиями, но и объединяют разные виды – превращаясь в подлинно межвидовые культурные практики. Так, в некоторых прибрежных регионах Бразилии дельфины и люди охотятся вместе. Рыбаки стоят по пояс в воде, глядя на поверхность, а дельфины подталкивают косяки рыбы к берегу. В нужный момент один из дельфинов резко ныряет – это сигнал: пора забрасывать сети. В результате кооперации выигрывают все – и рыбаки, и дельфины. Эта практика документирована еще в XIX веке, но, как показывают устные предания и исторические хроники, ей не меньше нескольких сотен лет. Передается она, как и вся культура, от старших к младшим – и у дельфинов, и у рыбаков. Молодые животные учатся охотничьим приемам, наблюдая за старшими, а дети рыбаков – под руководством отцов и дедов. Это один из редких примеров устойчивой традиции, в которой два вида сотрудничают, опираясь на память и взаимное понимание.
Мода на травинку
Навыки у животных не всегда связаны с выживанием или поиском пищи – сквозь поколения могут передаваться и символические жесты, и социальные ритуалы. Так, в 2010 году в приюте Chimfunshi (Замбия) одна самка шимпанзе по имени Джули начала вставлять жесткую травинку себе в ухо и оставляла ее там во время обычных дел. За три года это скопировали еще семь членов группы, а после смерти Джули традиция сохранилась. Спустя 13 лет во второй, никак не контактирующей группе того же приюта поведение «эволюционировало»: самец Джума стал помещать травинку уже в прямую кишку – и через неделю «аксессуар» носила почти вся группа. Исследователи называют это неинструментальной имитацией – символическим жестом, напоминающим человеческую моду: он не дает ощутимой пользы, но укрепляет групповую идентичность.
У панамских белолобых капуцинов (Cebus capucinus) тоже есть «модные» ритуалы, но другого рода. В некоторых группах они проверяют дружбу, засовывая пальцы друг другу в носы, выдергивая шерсть или передавая «сакральные» предметы (кусочек коры, прядь волос) – действия, которые болезненны или неудобны, но служат тестом доверия. Хотя эти ритуалы выглядят абсурдно, молодые обезьяны перенимают их у взрослых, что вполне соответствует критерию культурной традиции.
Память места и «ритуалы костей»
В нашей речи есть выражение «человек, не помнящий родства» – и действительно, можно ли говорить о преемственности поколений вне контекста памяти не о конкретных навыках, а о самих их хранителях? В контексте гипотезы бабушки было бы странно обойти вниманием слонов. У африканских саванных слонов (Loxodonta africana) семейную группу почти всегда ведет самая старшая самка – матриарх. Ее лидерство основано не на физической силе, а на памяти: где были водоемы в прежние засухи, какие края безопасны, как звучат реальные угрозы.
Во время девятимесячной засухи 1993 года в Танзании группы, ведомые пожилыми матриархами, вовремя увели семьи к удаленным водоемам и потеряли заметно меньше детенышей, чем стада под руководством молодых самок. А в классическом эксперименте в Кении исследователи проигрывали записи львиного рева. Стада под управлением самок старше шестидесяти лет точнее оценивали риск: они бурно реагировали на три рева или на голос самца льва, но игнорировали одиночные голоса львиц. То же стадо, услышав записи речи полукочевых масаев (традиционно охотящихся на слонов), сбивалось в плотную «черепаху», а на голоса неопасных кенийских этносов реагировало спокойнее.
Но слоны не только помнят географию и голоса. Они возвращаются к местам гибели сородичей, ощупывают кости, причем выделяют среди различных останков именно слоновьи. Подобные «паломничества» описаны в Кении и Ботсване, а анализ наблюдений показывает повторные визиты разных возрастных групп к одним и тем же останкам. Что можно считать признаком коллективной социальной памяти, выходящей за рамки утилитарного.
Всё как у зверей
Полевые наблюдения за танзанийскими охотниками-собирателями хадза показали, что постменопаузальные женщины ежедневно приносят в лагерь килограммы клубней и других растительных продуктов, закрывая «пищевой дефицит» внуков, пока их матери заняты младенцами. В арктических сообществах инуитов роль старших женщин столь же заметна, но выражается в знании среды. Эльдеры водят молодежь в многонедельные весенние походы, показывая маршруты миграции тюленей и гусей, учат оценивать лед и погоду, делиться добычей и шить парки, без которых на морозе не выжить. Эти дополнительные пища и знания повышают детскую выживаемость и уменьшают интервалы между родами, а значит, увеличивают общий репродуктивный успех семьи. Это краеугольный факт «гипотезы бабушки».
Выходит, бабушки – это ключ к пониманию того, почему мы стали такими: социальными, умными и семейными. Ведь чтобы накапливать и передавать знания, нужна память. А когда рядом есть тот, кто помнит, рождается не просто семья, а культура