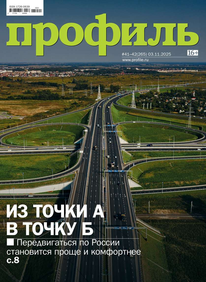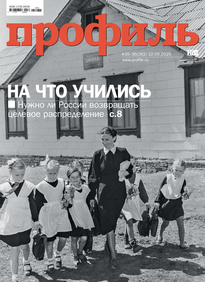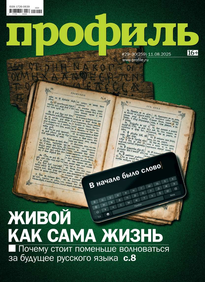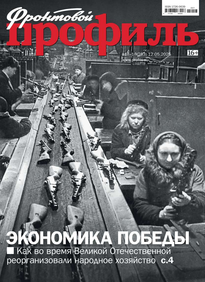Нехватка рабочих рук больше двух лет входит в топ наиболее серьезных проблем российской экономики, однако пик кадрового кризиса, похоже, пройден. С нового года на рынке труда наметилась стабилизация: рост зарплат практически прекратился, и даже безработица потихоньку пошла вверх. Многие компании сумели приспособиться к сложившейся ситуации, научились эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, но главное, прирост экономики по сравнению с 2023 и 2024 годами сократился в разы. А тормозящая экономика предъявляет меньший спрос на рабочую силу.
Действительно, ситуация с кадрами сейчас не так остра, как в предыдущем году или в позапрошлом. Год назад был зафиксирован исторический минимум безработицы – 2,3%, а спрос на работников, по данным Росстата, превышал численность рабочей силы в стране. В январе 2025-го показатель безработицы подрос до 2,4%, по итогам же года Центробанк прогнозирует его увеличение до 2,6%. Эксперты также говорят о некотором снижении остроты кадровой проблемы. В отдельных отраслях, таких как информтехнологии, произошло насыщение, и руководители компаний теперь сетуют на завышенные зарплаты своих айтишников. Однако главная причина смягчения кадрового вопроса – резкое замедление отечественной экономики. Российские власти уже назвали это «мягкой посадкой». Рост ВВП за первый квартал 2025-го, по данным Росстата, составил 1,4% против 3,4% в четвертом квартале прошлого года и 5,4% в первом квартале 2024-го. А коль скоро экономика замедляется, то и дополнительного спроса на рабочую силу она не предъявляет.
Ясно, что это не решает кадровую проблему как таковую, тем более что дефицит на рынке труда исчислялся едва ли не миллионами рабочих рук. Вице-премьер Александр Новак оценивал нехватку квалифицированных работников в 1,5 млн человек, вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в ближайшие пять лет российской экономике потребуется дополнительно 2 млн рабочих рук. Эксперты Института социального анализа и прогнозирования НИУ ВШЭ оценивали дефицит рабочей силы по итогам 2024-го в 2,6 млн человек. В частности, в обрабатывающей промышленности не хватало 391 тыс. человек, в торговле – 347 тыс., в транспортной отрасли – 219 тыс. и т. д. Наконец, Российский союз промышленников и предпринимателей сетовал на то, что 83% компаний в прошлом году испытывали дефицит кадров, и оценивал нехватку работников аж в 4,8 млн человек.
Справедливости ради надо сказать, что наличие незаполненных вакансий нередко объясняется скромными зарплатами – заметно ниже среднего показателя по стране.
Ключевые причины кадрового голода назывались не раз – это демографическая ситуация в стране и геополитика. Начнем с демографии. Максимальная численность населения в РФ была зафиксирована в начале 1993 года – 148,6 млн человек. К началу 2009-го это число сократилось до 142,7 млн, после чего наметился слабый рост. Заметно поправить ситуацию с демографией помогло присоединение Крыма, где в 2014 году проживали 2,28 млн человек. Согласно Всероссийской переписи 2020-го, численность населения страны повысилась почти до 148 млн человек, однако в следующие четыре года произошел новый провал – убыль составила 1,9 млн человек.
По предварительной оценке, к началу 2025-го население РФ сократилось до 146 млн человек (без учета новых регионов). И это несмотря на политику замещающей миграции, проводимую властями страны. По данным Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН), с середины 2000-х до 2019 года «международный миграционный прирост» составлял примерно 200–300 тыс. человек в год. Т. е. в Россию за это время переселилось (в качестве новых граждан) порядка 2,8–4,2 млн иностранцев, в основном из бедных стран СНГ. В пандемийном 2020-м «миграционный прирост» просел до 106 тыс. человек, но уже в следующем году вырос до 430 тыс. За январь–июнь 2024 года миграционный прирост составил 64,7 тыс. человек, что компенсировало 20% естественной убыли населения. В целом за прошлый год численность населения сократилась на 596 тыс. человек, таковы данные Росстата.
Добавим к демографии геополитику. Бывший министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в 2023 году на службу по контракту в Вооруженные силы РФ записались почти 540 тыс. человек. В это число входит и часть из 300 тыс. мобилизованных – по неофициальным оценкам, до 40% из них позже подписали контракт. В 2024-м контракт на службу в армии заключили еще порядка 450 тыс. человек. Добавим к этому несколько сотен тысяч россиян, которые эмигрировали из страны (часть из них продолжает работать на российские компании). В итоге только в 2023–2024 годах с рынка труда убыло около 1,3 млн работоспособных мужчин.
Фактор СВО оказывает и опосредованное влияние на рынок труда: развитие оборонных производств, импортозамещение в критических отраслях, восстановление новых территорий, транспортно-логистическая инфраструктура, ориентированная на Восток, – все это требует многих тысяч рабочих рук.
Стальные руки и электронные мозги
Рассуждая о кадровом вопросе, эксперты, как правило, предлагают два потенциальных решения: а) интенсификация хозяйства через повышение производительности труда и роботизация производства; б) накачка рынка труда дешевой рабочей силой за счет миграции из слаборазвитых стран. Возможно также сочетание обоих вариантов.
Потенциал для роста производительности труда у нас есть, и очень приличный. По оценке ученых ИНП РАН, в прошлом году 24% россиян были заняты на рабочих местах с высоким потенциалом автоматизации. Согласно подсчетам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), по ряду ключевых отраслей мы в два и более раза отстаем по производительности труда от Америки и заметно уступаем конкурентам из Западной и даже Восточной Европы. Так, в машиностроении средняя производительность отечественных предприятий составляет лишь 10% от уровня США, 17% – от уровня стран Западной Европы, 28% – от Южной Европы и 54% – от Восточной. В автомобилестроении эти показатели составляют 14%, 17%, 39% и 48% соответственно. Схожие параметры можно увидеть в легкой промышленности, пищевой и др. Старый Свет мы уверенно обгоняем лишь в двух отраслях – добыче полезных ископаемых и сегменте коммерческих услуг (см. таблицу). Есть также неплохие заделы в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Задача российской экономики сейчас не проспать новую технологическую революцию, связанную с роботизацией производств, в которую уже включились как Восток, так и Запад. По данным Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), в 2023 году среднемировой показатель роботизации промпредприятий составлял 162 робота на 10 тыс. работников. При этом в Южной Корее было 1012 роботов на 10 тыс. работников, т.е. по роботу на каждые десять человек. В Китае – 470 на 10 тыс. работников, в США – 295, в Евросоюзе – 219. В России, по оценке IFR, в 2023-м на 10 тыс. работников приходилось всего 11 роботов. Впрочем, Росстат давал более высокую оценку: 18 с половиной промышленных роботов на 10 тыс. работников. Впрочем, общей картины это не меняет.
Что касается проблемы кадров, то, согласно аналитике Национального бюро экономических исследований (NBER) США «От иммигрантов к роботам», один промышленный робот даже при равной производительности вытесняет от двух до четырех работников. Просто потому, что он способен трудиться 24 часа в сутки. В действительности роботизация производства ведет к более глубоким изменениям в структуре компаний, в частности, сокращению отдела кадров, бухгалтерии и других подразделений, так или иначе связанных с управлением персоналом.
В последнее время российские власти тоже заговорили о роботах. В мае прошлого года президент РФ Владимир Путин своим указом поставил задачу к 2030-му войти в топ-25 стран по плотности роботизации, для чего предусмотрено внедрение более 100 тыс. роботов. На это предполагается выделить порядка 350 млрд руб. из бюджета.
Минпромторг пообещал уже с 2025 года запустить программы по льготному кредитованию и лизингу промышленных роботов. А также создать во всех федеральных округах центры развития робототехники для выполнения НИОКР, технологического аудита, налаживания связей между производителями роботов и потенциальными заказчиками (в общей сложности 30 центров).
Но все не так просто. За последние десятилетия многие отрасли российской экономики были посажены на иглу дешевой рабочей силы, что сильно тормозило их модернизацию. Как отмечали специалисты Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), потребуется не только финансирование (без него никуда), но целый комплекс решений – подготовка кадров, внедрение специальных образовательных программ, начиная со средней школы, поддержка предприятий, проводящих переоснащение, и т. д.
Ситуация осложняется непростой геополитической обстановкой. Как пояснил «Профилю» главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев, экономика, которая замедляется и находится под беспрецедентным санкционным давлением, «решает не столько проблему роста и модернизации, сколько выживания», и вопросы автоматизации и роботизации для нее не столь актуальны. «Главное, чтобы заводы работали и не было социальной напряженности», – говорит эксперт. Это подтверждает и опыт стран, долгое время находящихся под жесткими санкциями, – Ирана и Северной Кореи. Им удалось избежать промышленного и финансового коллапса, но технологических прорывов ни одна из них, мягко говоря, не совершила. Северной Корее во второй половине 1990-х пришлось даже пережить голод, унесший несколько сотен тысяч человеческих жизней.
Впрочем, есть и оптимистический взгляд на проблему. Эксперты ЦМАКП полагают, что именно в условиях проведения специальной военной операции сложилась благоприятная ситуация для роботизации экономики. Как отмечал в своем интервью руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов, прежде низкие зарплаты делали бессмысленной роботизацию производств – зачем ставить робота, когда есть люди, готовые работать за 50 тыс. рублей. Получался замкнутый круг: из-за дешевого труда у предприятий нет стимула к модернизации, как следствие, низкая производительность, а значит, и низкие зарплаты. Теперь же выплаты мобилизованным и контрактникам, высокие зарплаты на военных производствах и ряде других отраслей привели к «революции зарплат» и создали предпосылки к роботизации. Тем более что численность рабочей силы у нас не увеличится, в лучшем случае она стабилизируется. А любое снижение зарплат приведет к «вымыванию качественной рабочей силы», так что возможности сэкономить на трудовых ресурсах уже не будет.
Мигранты против роботов
С этим тезисом могли бы поспорить сторонники завоза гастарбайтеров из бедных стран Азии. Ведь именно мигранты являются главным источником дешевой рабочей силы в целом ряде отраслей. Причем дешевизна эта объясняется не столько низкой оплатой труда, сколько нелегальным статусом работников. Серая занятость позволяет работодателям сэкономить на налогах, медобслуживании, страховках – на всех социальных издержках, переложив их на плечи налогоплательщиков.
Сразу отметим, сфера миграции представляет собой terra incognita, поскольку данные различных структур и экспертов о количестве мигрантов, их занятости, доходах и пр. могут отличаться в разы. Приведем официальную информацию. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что в 2023 году в Россию из стран СНГ въехало почти 10 млн человек, на учет было поставлено более 8,5 млн трудовых мигрантов. Член СПЧ и председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов со ссылкой на данные ФНС уверял, что из въехавших в страну 9,9 млн мигрантов в 2023-м официально работали и отчисляли налоги лишь 2,4 млн человек.
Что касается прошлого года, то, по информации главы МВД РФ Владимира Колокольцева, на 1 октября в России находилось свыше 6,5 млн иностранцев, из них более 740 тыс. нелегально.
Чем оборачивается для экономики присутствие целой армии «теневых работников»? По данным профессора Финансового университета при правительстве РФ Сергея Ануреева, мигранты ежегодно переводят за рубеж от $32 млрд до $40 млрд. Они формируют половину всей теневой занятости в стране, а вывод их из тени мог бы дать бюджету до 3,1 трлн рублей, или $34 млрд.
К тому же эксперты и чиновники признают, что семьи мигрантов активно пользуются отечественной «социалкой». По словам председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, для многих этот фактор является главной мотивацией для въезда в нашу страну. «Паразитирование на социальной инфраструктуре – это во многом то, ради чего сюда приезжает такое количество людей, – заявил он. – Мы прекрасно понимаем, что это миллионы людей». То есть экономические издержки от присутствия этой армии приезжих налицо, а выгоды неочевидны.
Впрочем, как сторонники, так и противники миграции во властных структурах РФ уже не раз давали понять, что вопрос массовой миграции отнюдь не экономический. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев в эфире «Россия 24» назвал причинами миграции угрозу терроризма и потери стабильности в странах Средней Азии. Мол, российские власти «открыли двери для мигрантов, чтобы они (государства Средней Азии. – «Профиль») могли вот эту взрывоопасную молодежную среду каким-то образом канализировать к нам». Импорт «взрывоопасной среды» чиновник объяснил «союзническим долгом» и «братскими отношениями». А трагедию в «Крокусе», видимо, надо считать издержками «союзнического долга»?
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, был еще откровеннее: «К нам едут будущие уголовные преступники, они нам нужны? Конечно, нет». Он также отметил, что чиновники профильных ведомств так и не сказали, сколько конкретно мигрантов требуется нашей экономике.
Самое время снова вспомнить о роботах. Дело в том, что исследования, проводимые учеными в Европе, США и Китае, показывают: роботизация различных отраслей хозяйства отнимает работу в первую очередь у гастарбайтеров. И наоборот, наличие мигрантов из бедных стран в качестве дешевой рабсилы является тормозом для технической модернизации и демотивирует бизнес проводить роботизацию производств. Такие выводы содержатся, например, в исследовании Копенгагенской школы бизнеса «Роботы и иммиграция» и в работе китайских ученых «Как искусственный интеллект влияет на структуру занятости в обрабатывающей промышленности Китая?». В последнем случае, правда, речь идет о внутренних мигрантах из бедных регионов страны. И никакой нагрузки на «социалку», проблем с криминалом и пр.
Таким образом, мы возвращаемся к ключевой дилемме рынка труда: проводить глубокую модернизацию всех отраслей, поднимать производительность труда и поддерживать высокий уровень оплаты либо сделать ставку на массовый приток дешевой рабочей силы, не считаясь с общественными издержками и рисками.
Впрочем, есть и третий вариант. Как отметил Игорь Николаев из ИЭ РАН, «медленная» экономика не станет предъявлять спроса на рабочую силу. Следовательно, по мере торможения российской экономики спрос на рабочую силу будет падать, и острота проблемы мало-помалу спадет сама собой. Но вряд ли это то, что нам хотелось бы видеть.