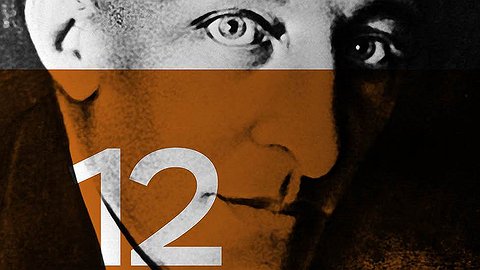Сто лет назад, в январскую метель, один петербургский литератор записал в записной книжке: "Сегодня я — гений". Такого рода констатации в русской словесности делаются нечасто, до того подобное произошло еще сто лет назад, когда другой литератор, звеня и подпрыгивая, говорил себе и о себе: "Ай да сукин сын!" Похожих случаев — когда автор в недоумении выходит из собственного тела и смотрит на себя со стороны, как на курицу, чудом высидевшую золотое яйцо, — на весь корпус русских текстов всего ничего, и тут особенно интересно подумать о судьбе этих, чудом в руки давшихся, удач; пушкинская "романтическая трагедия, в ней же первая персона Борис Годунов", как известно, при жизни автора вовсе не была ни поставлена, ни даже напечатана полностью. С блоковскими "Двенадцатью" вышло еще хуже.
За сто лет эту историю рассказывали столько раз, что рябь версий и интерпретаций почти невозможноразгладить: у последних двух строчек поэмы — десятки толкований, у обстоятельств ее написания — сотни комментаторов, интерпретаторов, мемуаристов, и всякий доподлинно знает, что Блок перед смертью проклял "Двенадцать" или, напротив, был им верен до конца. Потому что история этого текста кончается смертью его автора — так, словно она была задумана как универсальная эмблема, только не очень понятно, какое значение следует ей приписывать.
Можно рассказывать ее, например, так.
Был поэт, свыше всякой меры любимый своими читателями; каждая его строчка обсуждалась и заучивалась наизусть; его прекрасное лицо было знакомо курсисткам и городовым, так как открытки с его изображением продавались в газетных киосках; в какой-то момент, как это часто случалось в стране, где жили поэт и его читатели, его имя перестало быть синонимом лирической стихии, к которой он всю жизнь прислушивался, и стало значить что-то большее. Он стал, как бы это сказать, большечемпоэтом — персонификацией коллективного нравственного чувства; люди, которые не знали, как им думать о том или этом, шли к нему за ответом — и не сомневались, что его взгляд правильный. Он был совестью своих читателей — совестью мучительно раздраженной, не желающей мириться не только с базовым, застарелым несовершенством мироустройства, но с каждой из частностей, отражающих его постылую кривизну: с брюшком и баритоном соседа по квартире, с дождиком над пограничной будкой, с каждым газетным заголовком — особенно если газета была благонамеренной, либеральной; это слово сто лет назад значило для широкой общественности примерно то же, что и сейчас,— трусливую золотую середину.
То, чего ждал поэт, а вместе с ним, возможно, и его читатели, сегодня трудней всего представить, хотя назвать очень просто — он хотел, чтобы началось наконец будущее, терпеть более было невозможно: "как долго ждать и как трудно дождаться",— писал он. Слова будущее и новоевстречались в его статьях, дневниках, письмах с интенсивностью запятых: тень старого мира, запятнавшего себя насилием и ложью, лежала на повседневности так густо, что и настоящее время казалось стоячим, погруженным в прошлое. "Ватер-клозет, грязный снег, старуха в автомобиле; Мережковский — в Таврическом саду, собака подняла ногу на тумбу, m-lle Врангель тренькает на рояли (б***ь буржуазная), и все кончено". Все это, всех этих, включая пса и старуху (оба призраками возникнут в стихах "Двенадцати"), следовало сломать, смести, уничтожить; и всякое напоминание о том, что порядок, установленный человеком, хрупок, дохнешь и развалится, радовало поэта, как обещание скорой перемены. Черные ямы истории, зоны, где у обычного человека почва дрожит под ногами, а потом из-под ног уходит, Александр Блок называл скупо — событиями. После одной катастрофы он записывал в дневнике: "Гибель Titanic'a, вчера обрадовавшая меня несказанно (есть еще океан)". После другой — мессинского землетрясения, похоронившего под собой десятки городов и сотни тысяч людей,— пообещал следующую: "Мы еще не знаем в точности — каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева". Зарево не заставило себя ждать.
И вот стихия, к движениям которой прислушивался поэт, пока она ворочалась там, под землей, выпросталась на поверхность, так что ее не могли уже не замечать даже те, кто очень старательно отворачивался. И если встать вместе с Блоком на сторону океана в его войне с корабликом готов был не каждый, то по поводу русской революции ни у кого сомнений не возникало: общественность была на стороне стихии, по крайней мере в феврале. "Неотступное чувство катастрофы", о котором говорил Блок в 1908-м, уже тогда имело победный оттенок — казалось, все что угодно будет лучше российской государственности с ее дураками и дорогами, коррупцией, неправедными судьями и столыпинскими галстуками. Поэты упоенно рифмовали. Хлебников, будущий автор жутких "Председателя Чеки" и "Ночного обыска": "Свобода приходит нагая, / Бросая на сердце цветы, И мы, с нею в ногу шагая, / Беседуем с небом на "ты"". Цветаева, будущий автор белого "Лебединого Стана": "И кто-то, упав на карту, / Не спит во сне. / Повеяло Бонапартом / В моей стране". Кузмин, будущий автор крамольных "Переселенцев" и "Плена", говорил, что русская революция "проходит по тротуарам, простая / Будто ангел в рабочей блузе". Молчал только Блок, не писавший стихов с 1916 года — такое было с ним, кажется, впервые. Он заговорит после, не в лад с остальными, невпопад — зато в согласии со стихией — с звуковой волной, распиравшей его изнутри.
******
Это дело нуждалось бы в точном описании, но рассказы современников, как и дневники и письма самого Блока, перебирают всего несколько слов, указывающих на непонятное: то, что происходило тогда с поэтом, явно не относилось к зоне общего опыта, который можно было бы разделить или обсудить. "На днях, лежа в темноте с открытыми глазами, слушал гул, гул: думал, что началось землетрясение". "Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь". "Я начинал слышать сильный шум внутри и кругом себя и ощущать частую физическую дрожь. Для себя назвал это Erdgeist'ом". "Я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира)". Иногда это проще было назвать музыкой (больше того, музыкой революции, это словечко из статьи, написанной тогда же, в январе 1918-го, вскоре станет штампом), но чаще имеется в виду просто звук, неумолчный, незаглушимый — говоря словами Виктора Жирмунского — "грандиозный неразрешенный диссонанс". "Двенадцать" — внятный слепок этого звука, отчетливого, как прикосновение.
Может быть, естественный возможный комментарий к поэме — ее оборотная сторона, дневники Зинаиды Гиппиус, на сто процентов существующие в эвклидовой логике повседневности. Ни тоски по новому артистическому человечеству, ни мечты тайно себя уничтожить:сплошной здравый смысл и человеческая жалость к людям и деталям. Все приметы еще не написанных блоковских стихов, одна за одной, собираются ею с ноября — и толпа с плакатом "Вся власть Учр<едительному> Собранию!" ("поразительно не военная и даже не пролетарская, а демократическая. Трудовая демократия шла"), и красноармейцы с винтовочками стальными наперевес. Записи Гиппиус, сделанные в январе — в те самые дни, когда из внутреннего шума возникают очертания "Двенадцати",— можно читать почти как подстрочник.
6 января
Советский Ц.И.К. утвердил полный "роспуск" Учредительного Собрания. Завтра будет декрет.
Ну вот. Об остальном после. Не теперь. Теперь не могу. Холодно. Душа замерзла.
Вообще — я более не могу жить среди всех этих смертей. Я задыхаюсь. Я умираю.
7 января, воскресенье (утр.)
Убили. В ночь на сегодня Шингарева и Кокошкина. В Мариинской больнице. Красногвардейцы. Кажется, те самые, которые их вчера из крепости в больницу и перевозили. Какие-то скрылись, какие-то остались.
7-го же, ночью
Европа! Глубокие умы, судящие нас издали! Вот, посидел бы обладатель такого ума в моей русской шкуре, сейчас, тут, даже не выходя на улицу, а у моего окна, под сугробной решеткой Таврического сада. Посмотрел бы в эту лунную, тусклую синь притаившегося, сумасшедшего, голодного, раздраженного запахом крови, миллионного города...
Тот же лунный, тусклый, буранный, воющий звук, как шарманка, воспроизводится в поэме, словно сам собой, безо всякого авторского или человеческого участия:
Ужь я ножичком
Полосну, полосну!..
Ты лети, буржуй, воробышком!
Выпью кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку...
Упокой, Господи, душу рабы Твоея...
Скучно!
******
Если верить воспоминаниям Корнея Чуковского, Блок говорил ему, что именно с этой жестяной, скрежещущей на морозе согласной буквы жначалась поэма. Строчка про ножичек будет поплавком всплывать потом во множестве текстов, авторских и ничьих, неуловимо похожих друг на друга: народному "У нас ножи наточены, товарищи, на вас" отвечает лесенка Маяковского —
Но-
жи-
чком
на
месте чик
лю-
то-
го
по-
мещика.
Но есть в "Двенадцати" еще одно чередование ш и ж, забыть которое невозможно: оно в строчке, от которой всегда у меня замирает и ухает сердце — и от немыслимого совершенства, и от полной ее неожиданности, да куда там — невозможности в поэтической системе Блока: раннего, позднего, все равно. Это, действительно, выглядит так, словно на смену старому языку пришел новый, дикий, никакого родства не помнящий — зато наделенный свободой, которая и не снилась всему почти двадцатому веку. Про Катьку толстоморденькую в поэме говорится:
Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала —
и это великолепное, хамское жрала в сочетании с именем гетевской Миньоны и серыми гетрами принадлежит инструментарию какой-то позаследующей эпохи, миру Введенского, если не Сатуновского. В блоковском трехтомнике оно ломится вон со страницы, как и вся поэма, невесть откуда взявшаяся, не похожая ни на что, написанное поэтом раньше — привиделось, ветром надуло. Строчка про шоколад Миньон, впрочем, вовсе не блоковская. Ее, лучшую в поэме, мимоходом придумала Бу, Любовь Дмитриевна, предварительно забраковав то, что было у самого автора: пасмурное-некрасовское "юбкой улицу мела". День, когда это произошло,— мы его не знаем — особого рода водораздел: отсюда начинается актуальная поэзия, какой мы ее знаем.
Первый текст нового времени получился чужой, ничей, всеобщий, не ложащийся на чтение. Самому автору он был незнаком до такой степени, что предоставлять ему голос — попросту читать написанное вслух — Блоку никак не удавалось. В поздних, мучительных записях есть такая, от 17 января 1921 года: "Научиться читать "Двенадцать". Стать поэтом-куплетистом. Можно деньги и ордера иметь всегда". Для понимания этого места, кажется, важно знать, что Блок "куплетов" не стеснялся. Он охотно присутствовалпри чтениях "Двенадцати" — только исполняла поэму, и не без лихости, та же Любовь Дмитриевна. Блок и сам был мастером чтения; знаменитое "Анна Андреевна, мы не тенора", сказанное им когда-то Ахматовой,— жесткий урок профессиональной этики: жеманиться и отнекиваться нельзя. Дело было в чем-то другом, и ключевое слово здесь не деньги/ордера, а научиться, словно речь шла о чужом языке, чужих стихах. У Любочки с ними отлично получалось, а у него так и не вышло никогда.
Этот сосущий, клацающий звук, голос безъязыкой улицы, не давался никакому Маяковскому, как тот ни громыхал. Толстоморденькая Бу (толстушка, как говорила о ней та же Гиппиус) знала его лучше Блока, она и сама была немножко Катька ("масса зубов, страстная, курносая, крестик выпал") и немного улица; но то, что гуляло туда и сюда обезлюдевшими петроградскими проспектами, нуждалось не только в инструменте, но и в слухе — и в заведомой готовности записать все, что оно продиктует. Упырь — так говорят — не может войти в дом, если ты не позовешь его сам.
****
Стихи "Двенадцати", повторюсь, не похожи ни на что, Блоком написанное; с осени 1917-го сохранились наброски стихотворных строчек и строф, где Блок узнается по первому звуку: отдельные понятия, тоска, там, или ветер, всплывают потом в поэме, но мучительно измененными, так, что их невозможно узнать, как покойников или персонажей сна. Но они и не остаются надолго, пространство "Двенадцати" — арена хаотического движения, отражающегося от стен и катящегося дальше. В этом страннейшем тексте, собственно, больше ничего и не происходит, за исключением одного случайного (как нынче говорят, непреднамеренного) убийства: зато можно поручиться за документальную точность каждой интонации, каждого речевого или шумового обрывка. Они все представлены в этом первом вербатиме с предельной аккуратностью, как нечто, вовсе не принадлежащее автору — но оставленное кем-то ему на сохранение. Чего вовсе нет в тексте "Двенадцати", это Блока, каким его знаешь по старинным стихам: неутолимое общее движение с визгом проезжает по всем мыслимым клавишам, от сарказма к надгробному плачу, но среди человеческих голосов этого хора нет одного, самого главного.
Видимо, то, что моталось тогда по пустой столице, не имело уже никакого отношения к согласиям и несогласиям, симпатиям и антипатиям автора — и это придает происходящему в поэме странную имперсональность, предельно далекую от того, что Пастернак назовет позже "стихией объективности".Голоса, ракурсы, интонации меняются со скоростью метели, преодолевают десятки метров в секунду. Точек зрения слишком много: сквозь революционный Петроград начинает почему-то проступать блокадный Ленинград, мертвый город, где пространство и снег становятся последними зрячими и действующими лицами. Тем, кто не выдерживает заданной скорости, остается на месте, теряет темп (пес, буржуй, старушка, несчастный Петька),— здесь не выжить. Впрочем, в поэме нет инстанции, способной их пожалеть.
****
"Те, кто видит в "Двенадцати" политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой, будь они враги или друзья моей поэмы. Было бы неправдой, вместе с тем, отрицать всякое отношение "Двенадцати" к политике",— писал Блок двумя годами позже, предельно усталый и уже смертельно больной. Тексты, написанные в начале 1918-го, сделали то, что казалось невозможным,— лишили его доброго имени. Близкие друзья прерывали с ним знакомство, не подавали руки, открещивались в печати. Полоса пустоты, образовавшаяся вокруг него, была почти осязаемой: институт репутаций, на отсутствие которого принято жаловаться сегодня, поэта не защитил, напротив, его единодушно осудили. Интересно, что главную волну возмущения и протеста среди недавних читателей, единомышленников, клявшихся вчера его именем и предельно разочарованных сегодня, вызвала не статья "Интеллигенция и революция", писавшаяся в те же дни, что и поэма, а "Двенадцать": старушка-курица перемотнулась через сугроб, полосну-полосну, что нынче невеселый, товарищ поп. Беспримесная политика блоковских статей и ответов на газетные анкеты казалась необязательной сноской по сравнению с тем, что стояло за этим отсутствием участия. "Интеллигенцию и революцию" с ее бодрым людоедством ("переделать все", а тому, кто думает иначе, "и жить не стоит") постарались не заметить — но от автора "Двенадцати" его читатели отшатнулись с каким-то тревожным ужасом. Почти сразу после публикации поэмы Блок написал Белому, отношения с которым он сохранил до конца, и странное это было письмо: "Мне бы хотелось, чтобы Ты (и все Вы) не пугался "Двенадцати"; не потому, чтобы там не было чего-нибудь "соблазнительного" (может быть, и есть), а потому, что мы слишком давно знаем друг друга; а мне показалось, что Ты "испугался"".
В статье Григория Дашевского, написанной шесть лет назад (а кажется, что в другую историческую эпоху), о самом Блоке говорится едва ли не с большим ужасом, чем о событиях, послуживших для поэмы фоном или материалом. Заметка Дашевского тоже написана во времена событий: поздней весной 2012-го, на фоне разворачивающегося дела 6 мая, на сквозняке большой истории, еще не успевшей подстыть и примерзнуть. Счет, который он предъявляет Блоку, состоит из одного пункта: последовательная бесчеловечность, доведенная наконец до логического предела — до исчезновения из собственного текста. "За словами "Двенадцати", как за любыми словами, мы инстинктивно ищем того, кто говорит, или хотя бы то, что говорит,— и не находим. У нас не получается увидеть или вообразить то, чему Блок в этих стихах медиумически предоставил свой голос, то, что вместе с ветром и морозом насмехается над старушкой, буржуем, барыней в каракуле, писателем-витией, товарищем попом, над "человеком", который "на ногах не стоит", над "всяким ходоком", который "скользит — ах, бедняжка!", то, что вместе с вьюгой "долгим смехом заливается в снегах" и вместе с двенадцатью идет "державным шагом"".
Все так; но кому предъявлять претензии, если автор сам вычел себя из уравнения, умалился до небытия, отдал свой речевой аппарат тому, чего ждал и дождался? "Мы бы прокляли тебя, но ты только текст" — никакого Александра Александровича в "Двенадцати" не было отродясь. Зато потом на ледяном углу, оставленном поэмой, еще несколько лет озирался по сторонам человек, разучившийся писать стихи не на случай. Некоторое количество мадригалов и шуточных текстов, странных в своей сумрачной неповоротливости, он собирался собрать в книгу с безнадежным названием "Черный день".
****
Для того чтобы общественное мнение окончательно простило Блоку "Двенадцать", ему надо было выполнить два обязательных условия: отречься если не от собственной поэмы, то от того, что послужило для нее поводом, и умереть. Потом, правда, оказалось, что без первого можно обойтись. Расхожий миф о блоковском покаянии был подкреплен речью "О назначении поэта", которую сразу поняли как предсмертную. Такой она и была. Но усталость и отчаянье, с какими Блок смотрел на то, как крепнет новый, советский порядок, на "рабовладельца Ленина", новую чернь и новое чиновничество, не были ведь ни отказом от того, что стояло за "Двенадцатью", ни отречением от стихии вольного разрушения: это революция изменила музыке, ввела насилие в берега, отказалась быть океаном.
Но это уже никого не занимало. То, что сейчас стало утомительной нормой эпохи соцсетей — невинная уверенность каждого, что ему необходимо неукоснительно и незамедлительно высказаться по любому вопросу,— в те годы торжествовало на газетных страницах. Критики, страстно обвинявшие поэта в кощунстве, богохульстве, продажности и лиризме, над гробом перекинулись добрыми молодцами: оказалось, что покойник был ни в чем не виноват и может еще пригодиться для общего дела. "История докажет,— что умерший от цинги раб Божий Александр не мог принадлежать к позорной камарилье III Интернационала. <...> Блок был жертвой среди миллионов других русских жертв, и его нищенская смерть должна положить конец всем кривотолкам, ибо эта смерть говорит ясно: Блок был честный человек!" Промолчать, не высказаться, удержаться не смог, кажется, никто или почти никто — и те, кто еще недавно требовали бойкота, теперь называли мертвого человека соловьем и даже пленительным менестрелем.