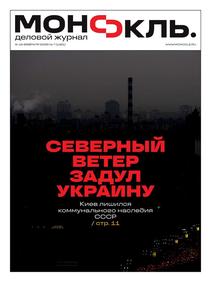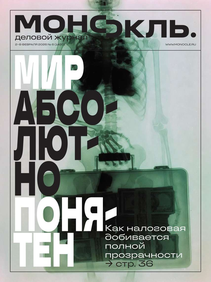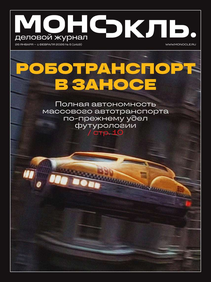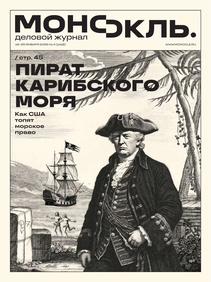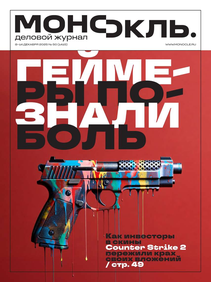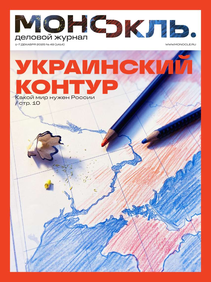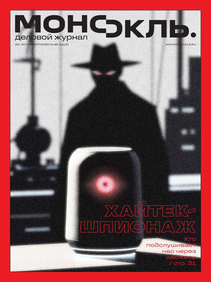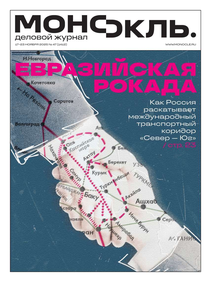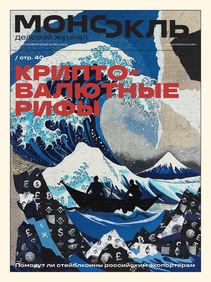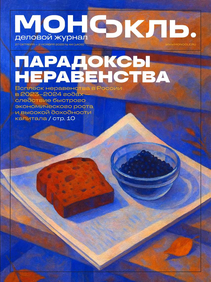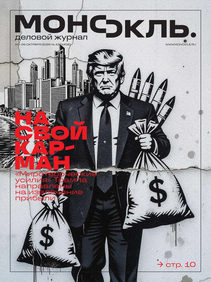Арктика тает так быстро, что ученые вынуждены постоянно перестраивать модели сокращения ее ледового покрова, но во всех сценариях вывод одинаков: через несколько десятилетий Северный Ледовитый океан в летний период полностью освободится ото льда. По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), при агрессивном потеплении это произойдет как минимум на один сезон до 2050 года, но к подобным прогнозам стоит относиться скептически: ранее часом икс разные научные группы называли и 2037 год, и даже 2028-й. По данным спутниковых наблюдений, которые ведутся с 1979 года, площадь морского льда уменьшается в среднем на 13% каждое десятилетие. В сентябре 2024 года, согласно исследованиям NASA и американского Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC), ледяной покров арктических морей достиг 4,28 млн квадратных километров — это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, примерно на 1,94 млн (на 45%) меньше среднего за последние 30 лет.
В новом исследовании ученые из Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН поставили вопрос о последствиях стремительного сокращения площади морского льда в Арктике, его влияние на судоходство и геополитическую обстановку. Для нашей страны, а площадь Арктической зоны составляет 28% ее территории, в этом контексте принципиальна обстановка вокруг Северного морского пути (СМП), который является важной внутренней логистической артерией, соединяющей северные территории с европейской частью России, Уралом, Сибирью, Дальним Востоком, и одновременно альтернативой Суэцкому каналу на пути из Европы в Азию. Чем быстрее Северный Ледовитый океан освободится ото льда, тем менее затратной станет перевозка грузов, так как необходимость строить технологически сложные контейнеровозы высокого ледового класса отпадет. Но геополитических рисков при этом возникнет больше.
«Начиная с 2020-х годов климатические модели указывают на формирование условий для безледной навигации за пределами российской исключительной экономической зоны, — отмечает один из авторов работы, директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН академик Владимир Семенов. — Продолжительность этого периода растет практически линейно и может превысить 2,5 месяца уже к середине века (сейчас продолжительность этого периода в календарном году колеблется в пределах от 0 до 35 суток. — “Монокль”). После 2050 года темпы увеличения периода открытой воды начинают различаться: при умеренном сценарии рост замедляется, а при агрессивном — продолжается и может достичь 3,5 месяца к 2075 году и до 5,5 к концу века».
Улучшение ледовой обстановки в Арктике делает возможным создание Северо-Западного морского пути (СЗП) через Северный Ледовитый океан вдоль северного берега Северной Америки и Канадский Арктический архипелаг. Пока этот гипотетический маршрут не рассматривают как прямую альтернативу СМП, он, скорее, будет страховать в международной торговле перегрузку Панамского канала (как СМП — Суэцкого), но сама перспектива интенсивного судоходства в Арктике, по мнению ученых, должна закладываться в планы экономики региона.
У СМП, конечно, есть существенное преимущество перед СЗП: он уже обладает самой мощной в Арктическом регионе инфраструктурой и активно развивается. Общий бюджет Севморпути до 2035 года составляет 1,8 трлн рублей, тогда как перспективы Северо-Западного пока туманны. Тем не менее, как считают ученые, возможность создания СЗП — аргумент в пользу того, чтобы основную ставку в СМП сделать на внутреннюю логистику, а дополнительную — на международную. Структура сегодняшних грузоперевозок СМП также больше ориентирована на внутренние потребности: по итогам прошлого года был установлен очередной исторический рекорд — 37,9 млн тонн перевозок по этому маршруту, однако вес транзита международных грузов в них недотянул даже до 10%. Кстати, с улучшением ледовой обстановки фактический объем грузоперевозок СМП может превысить его целевые показатели — 150 млн тонн к 2030 году и 220 млн к 2035-му.
Обращают внимание ученые и на то, что таяние льдов Северного Ледовитого океана влечет за собой смещение комфортных климатических зон на север, а вслед за ним неизбежно начнет смещаться экономический и геополитический центр тяжести в нашем полушарии. В частности, с увеличением безледного окна за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) иностранные суда смогут без согласования с Россией не только возить грузы из Европы в Азию, но и ловить рыбу, проводить геологические изыскания и разворачивать любую экономическую деятельность. Вероятно, именно Арктика станет следующим регионом, вокруг которого в обозримом будущем развернутся главные геополитические баталии с участием ведущих держав.
Арктическая жара
В режиме стремительного потепления арктические территории России живут уже около полувека. По данным Росгидромета, с середины 1970-х годов средняя температура воздуха в целом по стране росла на 0,51 градуса за десятилетие, что в 2,8 раза выше темпов увеличения средней глобальной температуры воздуха на планете (0,18 градуса за 10 лет). Главный вклад в этот показатель вносит потепление в Арктической зоне России — 0,71 градуса за 10 лет, что в 3,9 раза больше среднемирового показателя. В зависимости от сценариев изменения климата повышение приземной температуры воздуха на территории РФ по сравнению с началом XXI века может составить от 2 до 3,3 градуса к середине века и 2,3–7,5 — к его концу, и главным драйвером потепления станет, конечно, Арктика.
Посмотрим на уже фиксируемые климатические изменения на территории России. С конца XIX века температура поднялась на 2,2 градуса, осадков стало больше на 6,5%, стоки рек добавили 7%. В среднем за последние 10 лет:
— потеплело на 0,5 градуса, в Арктической зоне — на 0,7;
— отклонение от нормы интенсивности и суммы осадков составило плюс-минус 2–5%, причем на юге страны — дефицит, на остальной территории — профицит;
— масштабы и интенсивность лесных пожаров выросли на 37%;
— средний сток рек увеличился на 1,6%;
— сезонное протаивание многолетней мерзлоты (в летний период) стало глубже на 16,5%;
— в 2,2 раза ускорилось изменение береговой линии;
— доля ЧС, вызванных природно-климатическими факторами, повысилась на 30%.
Тем не менее эти разнонаправленные эффекты оказывают на экономику скорее положительное влияние. По подсчетам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, совокупный эффект от изменения климата на годовой объем ВВП в России при потеплении на один градус оценивается примерно в 1,2 трлн рублей (выгода — 3644 млрд, ущерб — 2450 млрд). Основную прибавку дают сельское и лесное хозяйства (+567 млрд), а также развитие СМП (+492 млрд). Вклад остальных сегментов менее выражен, при этом негативные экономические факторы с запасом компенсируются положительными: по сути, инвестиции в адаптацию приводят к перераспределению финансовых средств от секторов с меньшим мультипликатором на ВВП в пользу секторов с большим. В электро- и теплоснабжении — за счет перенаправления товарных и финансовых потоков. В сфере защиты от наводнений и деградации многолетней мерзлоты — за счет доходов, формирующихся в строительстве и смежных отраслях при реализации адаптационных мероприятий. Потенциальный рост смертности населения от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний перекрывается снижением числа смертей от холода в зимний сезон.
Прогнозируемый эффект от потепления климата в отдельных секторах экономики РФ (в рублях):
— увеличение экспорта зерна как следствие роста мировых цен из-за климатических изменений: +122 млрд;
— дополнительная заготовка леса: +28 млрд;
— дополнительное развитие секторов, вовлеченных в восстановление леса после пожаров: +24 млрд (при этом ущерб от пожаров оценивается в 21 млрд);
— сокращение сектора теплоснабжения из-за снижения спроса на тепло: −446 млрд;
— расширение сектора электроснабжения из-за дополнительного кондиционирования: +26 млрд;
— увеличение потребления электроэнергии (баланс дополнительных затрат на кондиционирование и экономии на теплоснабжении, выражается в текущих тратах потребителей) домашних хозяйств: +348 млрд;
— дополнительная выработка электроэнергии ГЭС в связи с ростом сточных вод: +4 млрд (при одновременном снижении потребления угля: −9 млрд);
— экспорт топлива, сэкономленного за счет теплоснабжения и ГЭС: +162 млрд;
— строительство флота для СМП: +250 млрд;
— развитие железнодорожной инфраструктуры для СМП: +113 млрд;
— вложения в управление, проектирование, обслуживание для нужд СМП: +64 млрд;
— локализация флота для СМП: +34 млрд;
— сооружение портов для СМП: +30 млрд;
— возведение новых зданий взамен выбывших: +466 млрд (ущерб: −429 млрд);
— строительство в рамках проектов адаптации производственной и логистической инфраструктуры для нужд бизнеса: +408 млрд (ущерб: −401 млрд);
— строительство в рамках проектов адаптации к наводнениям: +23 млрд (ущерб: −21 млрд);
— увеличение смертности от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, связанных с жарой: −1114 млрд;
— снижение смертности от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, связанных с холодом: +1121 млрд.
В экстремальном сценарии без мер адаптации при росте средней температуры в России в целом и в Арктике в частности на 1 градус за десятилетие издержки для экономики оцениваются в 3,1 трлн рублей. В их структуре — падение спроса на тепло, рост потребления энергии для кондиционирования, увеличение масштаба пожаров, загрузки мощностей и выработки ГЭС, снижение эффективности генерации и передачи электроэнергии, ущерб хозяйственным активам из-за деградации многолетней мерзлоты и наводнений и др. Возможности, которые дает таяние Арктики, еще нужно реализовать.
«Вся северная инфраструктура, безусловно, находится под ударом. Например, продолжительность функционирования зимников уменьшилась, что создает логистические проблемы при снабжении районов Крайнего Севера, но улучшаются условия речного и морского транспорта за счет увеличения навигационного периода, — комментирует ведущий геолог АО “Зарубежгеология” Павел Селиванов. — По моему мнению, процесс таяния вечной мерзлоты в долгосрочной перспективе для нашей страны скорее благо. Расширение климатических зон, потенциально пригодных для человека, — это более простой и дешевый доступ к ресурсам Крайнего Севера и к биоресурсам. Конечно, освоение территорий Сибири, Арктики — дело недешевое, небыстрое и трудоемкое, но игра стоит свеч».
Экономика адаптации
Оценки потенциальных экономических издержек от глобального потепления также меняются в сторону более оптимистичных. Если ранее эксперты говорили о потере 11, 14 и даже 20% мирового ВВП к 2050 году, то теперь прогнозные показатели уменьшены на порядок.
«По взвешенной оценке МГЭИК, глобальное потепление на полтора градуса снизит мировой ВВП на один‒три процента, а потепление на два градуса обернется разрывом в четыре‒шесть процентов. В ценах 2025 года это 1,14–3,41 триллиона и 4,55–6,83 триллиона долларов соответственно. Это эквивалент экономики РФ и ФРГ в номинальном долларовом выражении», — поясняет аналитик, автор и создатель телеграм-канала Data distributor Денис Нугаев.
Предполагается, что главной потерей станет снижение продуктивности трудоспособного населения: из-за невыносимой жары люди будут быстрее уставать и меньше работать, повсеместно начнет вводиться сиеста. К концу XXI века в отдельных странах производительность труда может упасть на 20% по сравнению с сегодняшним инерционным сценарием роста. На практике в самом уязвимом положении окажутся наименее развитые страны, не имеющие финансовых и управленческих ресурсов для купирования вызовов. Это Африка южнее Сахары, мусульманский мир за исключением аравийских монархий, а также вся Южная Азия — совокупно порядка 4 млрд людей, почти половина населения планеты.
«Чтобы избежать худших сценариев, правительства развитых стран с начала 2020-х соревнуются в расширении финансирования зеленого перехода, и это логично: климат меняется везде, а значит, касается всех рынков сбыта и производства, — поясняет Денис Нугаев. — По оценкам Программы ООН по окружающей среде, одна только адаптация к последствиям изменения климата — без учета борьбы с ними — ежегодно будет обходиться в 140–300 миллиардов долларов до 2030 года и в 280–500 миллиардов — до 2050-го».
Несмотря на революционный характер перемен, ломающий привычный уклад в мировой экономике, считается, что потенциальный синергетический эффект от зеленых инвестиций и отраслевой трансформации может оказаться высоким. По оценке Global Commission on Adaptation, вложение в экоперестройку 1,8 трлн долларов способно привести к накопленному приросту в 7,1 трлн.
Вместе с тем ученые из МГЭИК предостерегают от поспешных и непродуманных действий. Риски, связанные с климатом, чрезвычайно сложны для управления. Еще много лет уйдет на то, чтобы понять, как приспособиться к климатическим изменениям с наименьшими издержками и не усугубить ситуацию.
В России, собственно, так и поступают: реализуемые сегодня адаптационные меры сводятся, скорее, к созданию теории для будущей апробации. Первый национальный план мероприятий был принят в 2019 году — он предусматривал создание нормативно-методических основ и правового поля, разработку системы климатического мониторинга и прогнозирования изменений климата. В 2023 году появился второй план, направленный на создание новых технологических решений для изучения климата, формирование перечня лучших российских и международных практик по адаптации отраслей экономики, проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности действующих мер, а также на разработку вузовских программ для меняющихся секторов экономики. До конца 2025 года будет утвержден очередной, возможно более конкретный, документ по адаптации к климатическим изменениям.
«Ученые-климатологи и их коллеги из других областей (экономисты, экологи, медики, биологи, работники сельского хозяйства и другие) сейчас активно занимаются научным обеспечением разработки методов адаптации, — рассказывает Владимир Семенов. — Природа, конечно, тоже реагирует на изменения климата; многие такие процессы сейчас успешно моделируются и включены в глобальные модели. Но далеко не всегда природа выступает регулятором внешних воздействий на климат. Часто бывает наоборот: внешнее воздействие усиливается внутренними положительными обратными связями, что приводит к еще более серьезным изменениям».
Не спорить, а приспосабливаться
Специально для скептиков повторим: ни в одной авторитетной климатической модели сегодня нет сценария, предусматривающего хотя бы краткосрочное колебание климатического маятника и увеличение ледового покрова планеты. Безусловно, Земля обладает компенсационными механизмами — например, мы наблюдаем расширение площади лесов, рост биомассы в океане — но этого явно недостаточно, чтобы повернуть глобальное потепление вспять.
«Конечно, большинство процессов в природе имеет колебательный характер, в том числе изменение климатических характеристик на многих временных отрезках. Вопрос во вкладе этих колебаний и изменений, связанных с внешним воздействием, в современные и будущие изменения климата. Единственный инструмент для оценки такого вклада — глобальные модели климата, и они, при наблюдаемом антропогенном воздействии, главным образом приводящем к увеличению объемов парниковых газов в атмосфере, и при перспективе роста таких объемов, указывают на продолжение таяния морских льдов в Арктике и достижение сезонно безледного режима (в летний период) уже к середине двадцать первого века», — отмечает Владимир Семенов.
Модели также показывают, что вклад холодных циклов в изменение климата по сравнению с эффектом антропогенного воздействия невелик. И чем больше рассматриваемый временной период, тем очевиднее эта закономерность. Иными словами, если в масштабе 10–20 лет такие циклы могут замедлить потепление, а в отдельных регионах даже привести к снижению средней температуры, то в перспективе 30 лет и более они уже не способны изменить восходящий температурный тренд. В частности, в Арктике модели не прогнозируют похолодания в ближайшие десятилетия — таяние льдов там будет продолжаться.
По словам Владимира Семенова, прошло то время, когда на конференциях климатологи с упоением спорили о глобальном потеплении. Сейчас все сосредоточены на изучении способов сокращения выбросов парниковых газов, что в перспективе 20–30 лет (поскольку климат реагирует на такие меры не мгновенно) приведет к замедлению роста температуры, а затем к ее стабилизации или снижению. Кроме того, специалисты заняты разработкой технологий улавливания углекислого газа из атмосферы, методов воздействия на экосистемы для увеличения поглощения ими парниковых газов, изменения разными способами отражающей способности Земли, а также созданием «экономики потепления».